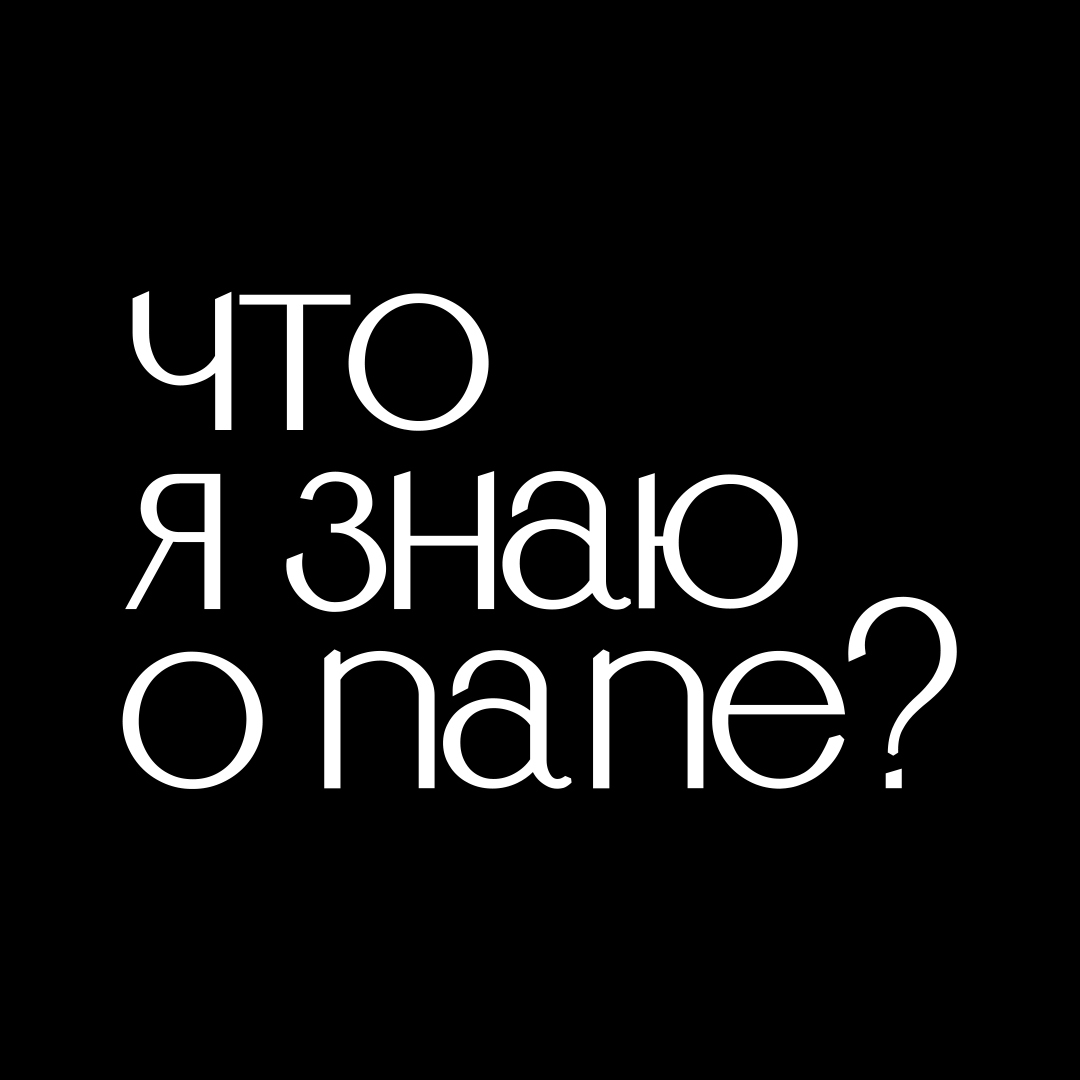Яна Верзун
ПАПА
В детстве любимыми игрушками у меня были бумажные куклы. Я и в обычные куклы играла, но с бумажными было проще: в любой момент ее можно было порвать и выбросить. Я рисовала им пышные юбки и короткие топы, раскрашивала и вырезала, чтобы они могли переодеваться по сто раз на дню, в отличии от меня. У меня с гардеробом тогда были проблемы. Все, что можно было купить на местном рынке, мне не нравилось. Претензия на вкус появилась раньше возможности ходить по магазинам. И вот когда папа подарил мне серебряное кольцо с камнем цвета переспелого помидора, я сразу отнесла его в ломбард, получила деньги и пошла в единственный в нашем городе модный магазин. Денег хватило на черные (без всяких страз, потертостей и дыр) джинсы и бежевые кеды. Не помню дня, чтобы когда-то я чувствовала себя более стильной.
Мама говорит, что одежду папа шил себе сам.
Папе я хотела сказать, что кольцо потеряла и даже отрепетировала сцену вранья, но воспроизводить ее не пришлось. Про кольцо он так ни разу и не спросил. Как не спрашивал про мои оценки в школе, настроение и планы на жизнь. Наверное ему это было интересно, потому уже после его смерти, я нашла у него записную книжку, адресованную мне. И если мне когда-нибудь потребуется демонстративно заплакать, я запросто это сделаю, стоит лишь вспомнить содержимое этой маленькой записной книжицы. Вопросов там было больше,чем в школьной анкете для девочек.
Мама говорит, что одежду папа шил себе сам. Его любимым цветом был белый. Идут они в кино: мама с химией на волосах, худая, молодая, а он в белом брючном костюме, белой шляпе и в бежевых туфлях. И все сам сшил. У него и швейная машинка была. Иголка скользила по льну, как нож по маслу. Не знаю, сколько лет прошло и сколько мыслей в его голове пробежало, когда иголочку он стал использовать по другому назначению. Мама была беременна мной, когда он ночью снял с нее обручальное кольцо, чтобы поменять его на дозу. Тогда ни телевизора, ни магнитофона, ни половины мебели в доме уже не было — все ушло с аукциона за героин. Верность белому цвету он сохранял всю жизнь.
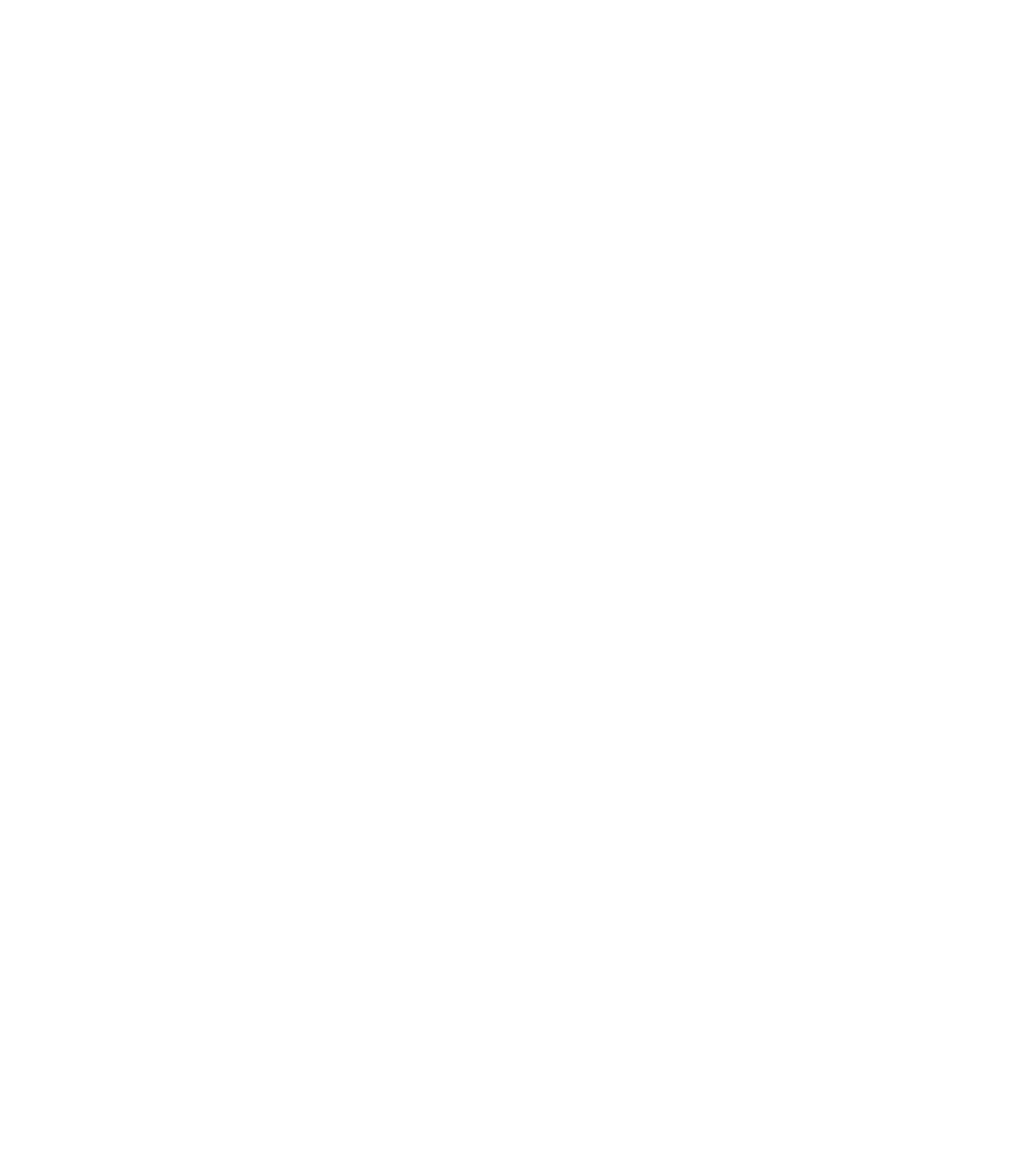
ЯНА ВЕРЗУН
32 ГОДА. ЖУРНАЛИСТ, АВТОР
Публиковалась в журналах Psychologies, Maxim, Сибирские огни. В процессе написания финальной версии романа «Дурные привычки». Живу в Санкт-Петербурге.
Другие рассказы
МАША КРАШЕНИННИКОВА-ХАЙТ
МАРТА СТРEЛЕЦКАЯ