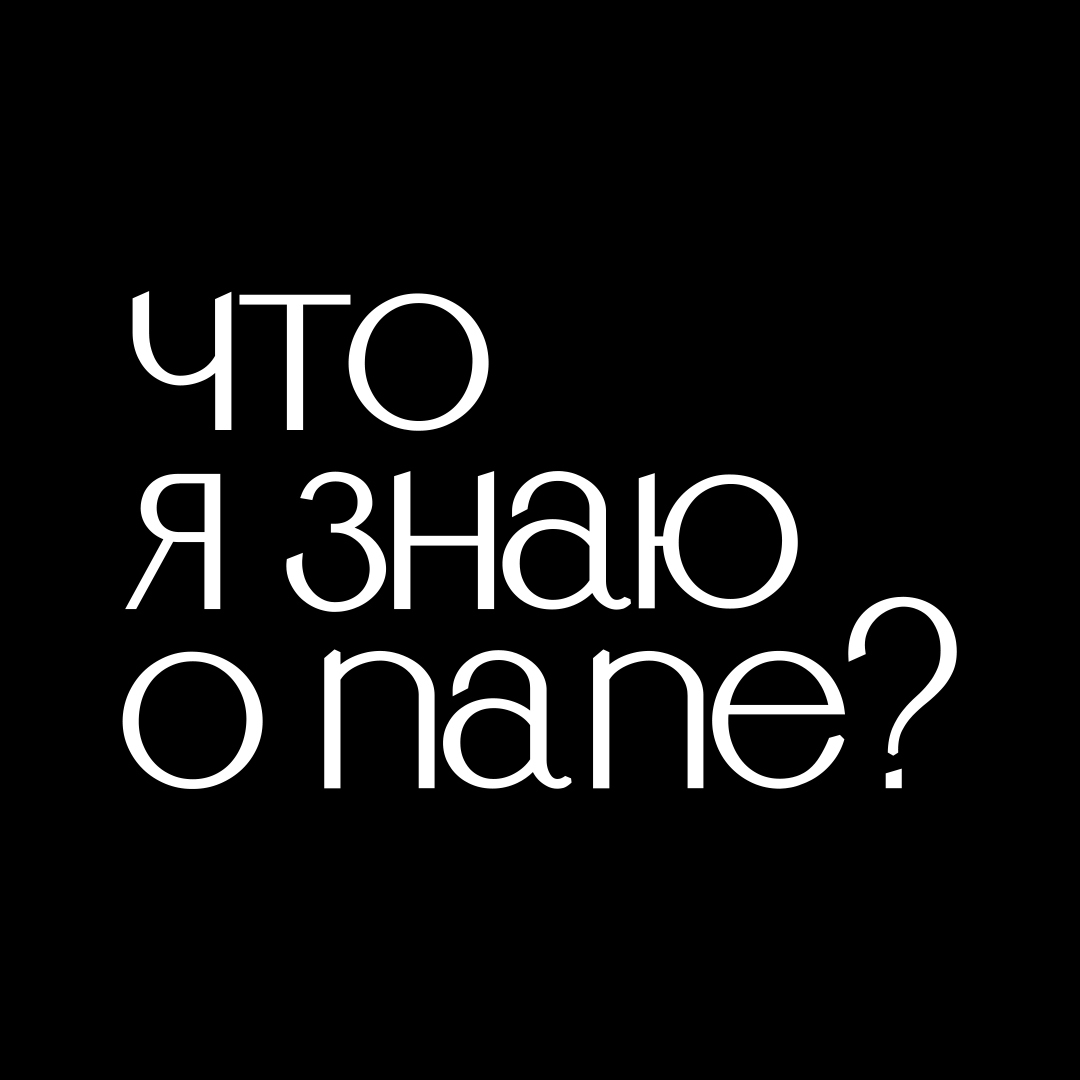татьяна ильёва
МИФОТВОРЕЦ
Я в который раз пытаюсь написать этот текст, и всё время откладываю. Мне страшно заглядывать в колодец воспоминаний. Готова ли я окунуться в него? Или достаточно опускать ведёрко, зачерпывать небольшую порцию и смотреть, что же досталось на этот раз?
Мне повезло, я хорошо знала отца. Хотя знала ли? В детстве он был моим миром. Но каждый раз, когда я случайно натыкалась на какое-то свидетельство – фотографию, документ или оброненную фразу старого приятеля – мир шатался. Становилось непонятно, чему верить, что было взаправду, а что – вымысел. При всём своём стремлении к истине, вокруг себя отец творил собственную мифологию. Имею ли я право разрушать то, что так тщательно сочинялось и хранилось? Или эти легенды нужны были только чтобы он сам верил в них, и сейчас уже всё равно, и можно озвучить правду?
Воскресным утром мы с братом прибегаем к нему в спальню. Мама встала раньше, чтобы приготовить завтрак. А мы забрались на кровать, вскарабкались по его большому животу. «Покатай нас!» – требуем в один голос. И он сажает брата на одну ладонь, меня – на другую, и мы по очереди жмём на нос-кнопку: вжжжж и его сильные руки поднимают и опускают нас, правая вверх, левая вниз.
Жарким летом за городом мы с братом идём через поле к озеру, где с раннего утра рыбачит отец. Мы несём ему на завтрак горячую яичницу, которую мама спрятала между двух эмалированных мисок. Ноги вязнут в горячем песке дороги, луг пахнет цветами и ветром. Папа сидит под ивой на берегу, а в его ведре уже лежат караси. Он улыбается и радостно машет нам.
Я осторожно ступаю по осеннему лесу. Мы разбились на пары: мама с моим братом, я – с отцом. В одной руке у него трость, в другой – тонкий нож, сделанный из дозиметра, а я тащу корзину. На мягком мхе ещё лежит роса, а воздух пахнет прелой листвой и хвоей. Можно ходить тихо, не перекликаясь, мы все знаем этот лес наизусть. «Вон там!», – машет тростью папа, и я ныряю под куст можжевельника за крепким польским грибом. Смахиваю с бархатной коричневой шляпки иголки, а отец счищает ножом землю с ножки: «Красавец! А пахнет как!» – и отправляет добычу мне в корзину.
В этих воспоминаниях всегда солнечно.
Мне повезло, я хорошо знала отца. Хотя знала ли? В детстве он был моим миром. Но каждый раз, когда я случайно натыкалась на какое-то свидетельство – фотографию, документ или оброненную фразу старого приятеля – мир шатался. Становилось непонятно, чему верить, что было взаправду, а что – вымысел. При всём своём стремлении к истине, вокруг себя отец творил собственную мифологию. Имею ли я право разрушать то, что так тщательно сочинялось и хранилось? Или эти легенды нужны были только чтобы он сам верил в них, и сейчас уже всё равно, и можно озвучить правду?
Воскресным утром мы с братом прибегаем к нему в спальню. Мама встала раньше, чтобы приготовить завтрак. А мы забрались на кровать, вскарабкались по его большому животу. «Покатай нас!» – требуем в один голос. И он сажает брата на одну ладонь, меня – на другую, и мы по очереди жмём на нос-кнопку: вжжжж и его сильные руки поднимают и опускают нас, правая вверх, левая вниз.
Жарким летом за городом мы с братом идём через поле к озеру, где с раннего утра рыбачит отец. Мы несём ему на завтрак горячую яичницу, которую мама спрятала между двух эмалированных мисок. Ноги вязнут в горячем песке дороги, луг пахнет цветами и ветром. Папа сидит под ивой на берегу, а в его ведре уже лежат караси. Он улыбается и радостно машет нам.
Я осторожно ступаю по осеннему лесу. Мы разбились на пары: мама с моим братом, я – с отцом. В одной руке у него трость, в другой – тонкий нож, сделанный из дозиметра, а я тащу корзину. На мягком мхе ещё лежит роса, а воздух пахнет прелой листвой и хвоей. Можно ходить тихо, не перекликаясь, мы все знаем этот лес наизусть. «Вон там!», – машет тростью папа, и я ныряю под куст можжевельника за крепким польским грибом. Смахиваю с бархатной коричневой шляпки иголки, а отец счищает ножом землю с ножки: «Красавец! А пахнет как!» – и отправляет добычу мне в корзину.
В этих воспоминаниях всегда солнечно.
А есть и другие. Те, где он багровеет и орет из-за двойки брата или оставленного на столе огрызка от яблока. Те, где я слышу, как он во сне стонет, мечется по кровати в кошмаре и кричит. Вижу в приоткрытую дверь родительской спальни, как он перебирает пальцами в воздухе, и плачет, не просыпаясь. Мама потом говорила, что он так пытался собрать кожу на изуродованном трупе своего товарища. Сам же он никогда толком не рассказывал об Афгане. И никогда не отвечал на мой детский вопрос: «Папа, а ты кого-нибудь убивал на войне?»
В средней школе я очень его стеснялась. У всех отцов были какие-то определённые профессии, занятия. А мой кто? Военный пенсионер? Мне же всего двенадцать, а папа на пенсии, стыдоба какая! Таксует ночами, чтобы прокормить семью? Признаться перед лицейскими одноклассниками, что мы бедные? Ни за что. Поэт, музыкант, автор-исполнитель. Это был самый приемлемый ответ, да и учительница литературы благоговейно вздыхала и восхищалась им. Мне нравилось, что в доме были книги его стихов. Нравилось слушать его гитару. Нравились его друзья, с которыми они репетировали перед концертами. И хотя его выступления ограничивались небольшими ДК и редкими гастролями, а половина песен были о войне, так мне было проще принять его.
Мы с отцом были очень близки. Но он даже не представлял, сколько его секретов я знаю. Какие-то я выведала случайно, наткнувшись на судебные бумаги об отмене алиментов на двоих детей. Так я узнала, что где-то у меня есть единокровные брат и сестра, а у отца – бывшая жена. Какие-то секреты выбалтывали родственники, как, например, что истинная причина его хромоты – автомобильная авария, а не военное ранение. Какие-то тайны рассказывал он сам, выпив лишку на семейном празднике.
– …а Серёньку вечно травили, тыркали, такой-сякой. И тут я не такой был, и там. Пока у меня гитара не появилась, классе в четвёртом. Все ахнули. Мать купила и в тот же день зачем-то её в школу прямо посреди уроков принесла. Выделывалась всё.
– Так ведь затем и принесла, чтобы ахнули. Бабушка хитрая женщина была, мудрая, – мама чувствовала людей тоньше, чем он.
Он умел абсолютно беззастенчиво наслаждаться жизнью: едой, вином, музыкой, дружбой. Пока здоровье ему позволяло, все праздники в нашем доме проходили шумно: музыка гремит на все десять этажей, пятнадцать человек гостей, еле уместившихся на угловом диване и креслах. На разложенном квадратном столе салаты в хрустале, нарезки, обязательно грибы собственной засолки, и с грибами же неизменные блины, которые они с мамой закручивали в четыре руки, бутерброды с икрой, которые намазывали мы с братом, в центре – шампанское, вино и коньяк. В середине вечера диван сдвигали, чтобы освободить место для танцев под «Аббу» и «Битлов». Отец раскрасневшийся, трясёт закинутой назад головой и во весь голос подпевает. Потом берётся играть сам, до рваных струн на дорогой гитаре, сделанной на заказ. Директор местного музея, заснувший под пианино. До семи утра споры с друзьями на кухне в клубах табачного дыма, до хрипоты. Всё на максимум.
Ему нужно было восхищение всех вокруг, знакомых и незнакомых. Поэтому, наверное, он так любил сцену. И поэтому же регулярно снабжал нас с братом подарками и впечатлениями. У нас в детской был собственный телик, видак и кассеты со всеми диснеевскими мультфильмами, чего в девяностых не было ни у кого из наших знакомых. Он заканчивал таксовать поздно ночью и, приезжая, оставлял нам конфеты под подушкой. Просыпаешься, а там – шоколадный батончик, каких по телику не рекламируют и в обычном ларьке не купишь. То ли турецкий, то ли польский.
Когда мне было четырнадцать, он усадил меня на диван, так, чтобы колонки были на равном расстоянии от меня, выключил свет. Зажёг свечи и поставил виниловую пластинку «Wish You Were Here» Pink Floyd. Огонь отражался в зеркале серванта, музыка заполняла всю комнату и мой живот. А он, довольный собой, внимательно следил за моей реакцией.
У нас с братом были разные отцы. У меня был папуля. Он обожал меня, а я его. Бабушки в один голос говорили, что я «в его породу», что он во мне души не чает. Я была папиной дочкой, его принцессой викингов, амазонкой, смелой и решительной. Вам бы с братом характерами поменяться! Благодаря отцу, я с детства знаю, что я сильная и нет такой беды, с которой я бы не справилась. Он бесконечно восхищался мной. Ты помнишь, как мы с тобой, маленькой, ходили в магазин? Такая пурга началась, а ты сказала, что пойдёшь сама, без санок. И ведь шла! Четыре годика было, а такая терпеливая уже была, кисуня моя. Мне казалось, никто не может любить меня сильнее.
– …а Серёньку вечно травили, тыркали, такой-сякой. И тут я не такой был, и там. Пока у меня гитара не появилась, классе в четвёртом. Все ахнули. Мать купила и в тот же день зачем-то её в школу прямо посреди уроков принесла. Выделывалась всё.
– Так ведь затем и принесла, чтобы ахнули. Бабушка хитрая женщина была, мудрая, – мама чувствовала людей тоньше, чем он.
Он умел абсолютно беззастенчиво наслаждаться жизнью: едой, вином, музыкой, дружбой. Пока здоровье ему позволяло, все праздники в нашем доме проходили шумно: музыка гремит на все десять этажей, пятнадцать человек гостей, еле уместившихся на угловом диване и креслах. На разложенном квадратном столе салаты в хрустале, нарезки, обязательно грибы собственной засолки, и с грибами же неизменные блины, которые они с мамой закручивали в четыре руки, бутерброды с икрой, которые намазывали мы с братом, в центре – шампанское, вино и коньяк. В середине вечера диван сдвигали, чтобы освободить место для танцев под «Аббу» и «Битлов». Отец раскрасневшийся, трясёт закинутой назад головой и во весь голос подпевает. Потом берётся играть сам, до рваных струн на дорогой гитаре, сделанной на заказ. Директор местного музея, заснувший под пианино. До семи утра споры с друзьями на кухне в клубах табачного дыма, до хрипоты. Всё на максимум.
Ему нужно было восхищение всех вокруг, знакомых и незнакомых. Поэтому, наверное, он так любил сцену. И поэтому же регулярно снабжал нас с братом подарками и впечатлениями. У нас в детской был собственный телик, видак и кассеты со всеми диснеевскими мультфильмами, чего в девяностых не было ни у кого из наших знакомых. Он заканчивал таксовать поздно ночью и, приезжая, оставлял нам конфеты под подушкой. Просыпаешься, а там – шоколадный батончик, каких по телику не рекламируют и в обычном ларьке не купишь. То ли турецкий, то ли польский.
Когда мне было четырнадцать, он усадил меня на диван, так, чтобы колонки были на равном расстоянии от меня, выключил свет. Зажёг свечи и поставил виниловую пластинку «Wish You Were Here» Pink Floyd. Огонь отражался в зеркале серванта, музыка заполняла всю комнату и мой живот. А он, довольный собой, внимательно следил за моей реакцией.
У нас с братом были разные отцы. У меня был папуля. Он обожал меня, а я его. Бабушки в один голос говорили, что я «в его породу», что он во мне души не чает. Я была папиной дочкой, его принцессой викингов, амазонкой, смелой и решительной. Вам бы с братом характерами поменяться! Благодаря отцу, я с детства знаю, что я сильная и нет такой беды, с которой я бы не справилась. Он бесконечно восхищался мной. Ты помнишь, как мы с тобой, маленькой, ходили в магазин? Такая пурга началась, а ты сказала, что пойдёшь сама, без санок. И ведь шла! Четыре годика было, а такая терпеливая уже была, кисуня моя. Мне казалось, никто не может любить меня сильнее.
Этот мир надломился в один вечер. Мне было двадцать. Я мыла посуду, стоя спиной к входу, пряча свежий пирсинг под губой. Но зря прятала: он уже заметил. Грубо дёрнул меня за длинный хвост, чтобы я повернулась к нему, и зарычал. Спустил на меня зверя, хорошо знакомого моему брату с детства. Я вспомнила, как отец, огромный, с искаженным яростью лицом, с широкой ладонью, раскрытой для удара, обрушивался на вжавшегося в диван маленького мальчика, и никто не мог защитить его. Казалось, этот зверь сметёт своим гневом любого, кто подвернётся под руку. Этого зверя боялись все, даже я, хотя знала, что меня он не ударит. Я выслушала его ругань, молча домыла тарелку, сглотнула ком в горле, собрала книги и какие-то вещи и ушла. И хотя позже я пару раз ночевала в своей детской комнате, больше в родительском доме я не жила. Где-то там закончился ещё один миф.
Потом мы помирились, общались, разговаривали и по-прежнему любили друг друга. Он был рядом. Покупал со мной мою первую машину. Пел на моей свадьбе. Он увозил меня из одного роддома, когда я потеряла сына, и встречал у другого с дочерью. Мы вместе хоронили его отца и мать. Он держал на коленках внучку и рассказывал, как пойдёт гулять с ней по парку, хотя сам уже почти не выходил из дома. Он долго и изнурительно болел. На негнущейся левой ноге открывались свищи и язвы, от которых уже не помогали антибиотики. Ему так и не смогли поставить точный диагноз. В какой-то период даже телефонные разговоры давались ему с трудом, и я стала через маму узнавать про его состояние.
В последний наш вечер вместе, когда он собрал всю семью за столом, он поставил пластинку Жанетт, потому что я тогда учила испанский. Под легкомысленные песенки мы говорили обо всём на свете, а под конец его дыхание потяжелело, отёкшие руки замерли на большом животе, и он провалился в дрёму прямо за столом. Поседевшая кудрявая голова лишь слегка склонилась к груди. Он выглядел так мирно, но у меня внутри что-то кольнуло: «Как же он устал от постоянной борьбы с этой жизнью». Через десять дней семья снова соберётся на его похороны.
Спустя семь лет я дежурно приезжаю к его гранитной плите и мраморной крошке. Я не знаю, что я хочу там найти. Мне осталось в наследство пара книг его стихов, вьющиеся волосы, широкое лицо и подбородок с ямочкой, несколько травм, дыра в сердце и вопросы без ответа.
Спустя семь лет он продолжает сниться мне. Я вижу его молодым, радостным, стройным, с короткими кудрями и хитрым прищуром. В этих снах я истово пытаюсь объяснить ему какую-то суть, что-то очень важное. И там он слушает меня и понимает.
Потом мы помирились, общались, разговаривали и по-прежнему любили друг друга. Он был рядом. Покупал со мной мою первую машину. Пел на моей свадьбе. Он увозил меня из одного роддома, когда я потеряла сына, и встречал у другого с дочерью. Мы вместе хоронили его отца и мать. Он держал на коленках внучку и рассказывал, как пойдёт гулять с ней по парку, хотя сам уже почти не выходил из дома. Он долго и изнурительно болел. На негнущейся левой ноге открывались свищи и язвы, от которых уже не помогали антибиотики. Ему так и не смогли поставить точный диагноз. В какой-то период даже телефонные разговоры давались ему с трудом, и я стала через маму узнавать про его состояние.
В последний наш вечер вместе, когда он собрал всю семью за столом, он поставил пластинку Жанетт, потому что я тогда учила испанский. Под легкомысленные песенки мы говорили обо всём на свете, а под конец его дыхание потяжелело, отёкшие руки замерли на большом животе, и он провалился в дрёму прямо за столом. Поседевшая кудрявая голова лишь слегка склонилась к груди. Он выглядел так мирно, но у меня внутри что-то кольнуло: «Как же он устал от постоянной борьбы с этой жизнью». Через десять дней семья снова соберётся на его похороны.
Спустя семь лет я дежурно приезжаю к его гранитной плите и мраморной крошке. Я не знаю, что я хочу там найти. Мне осталось в наследство пара книг его стихов, вьющиеся волосы, широкое лицо и подбородок с ямочкой, несколько травм, дыра в сердце и вопросы без ответа.
Спустя семь лет он продолжает сниться мне. Я вижу его молодым, радостным, стройным, с короткими кудрями и хитрым прищуром. В этих снах я истово пытаюсь объяснить ему какую-то суть, что-то очень важное. И там он слушает меня и понимает.
ТАТЬЯНА ИЛЬЕВА
Родилась в 1985 году в Рязани. Закончила РГУ им. С.А.Есенина, отделение лингвистики и межкультурной коммуникации. Переводчица, блогерка, преподавательница, а с недавнего времени - писательница.
Другие рассказы
МАША КРАШЕНИННИКОВА-ХАЙТ
ЯНА ВЕРЗУН