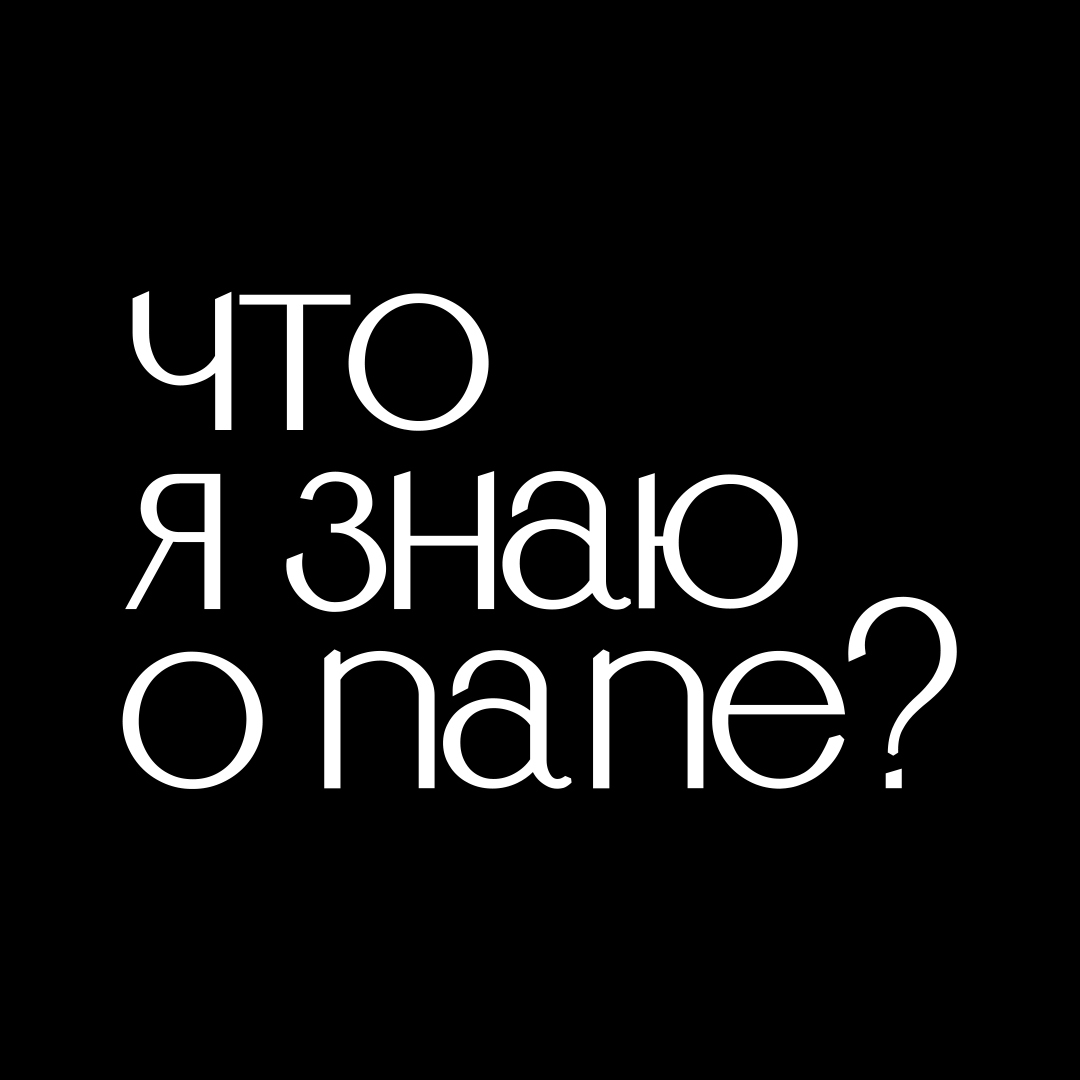МАША КРАШЕНинНИКОВА-ХАЙТ
ЭТОМУ ПРИНЕСУТ
Папа лежит на диване в своей комнате, я сижу рядом. На ходунках гирляндой повисли тряпки из старой простыни: розовые, зелёные, ультрамариновые прямоугольники. Он придумал заматывать ими текущие язвочки на ногах, чтобы сукровица не мочила шерстяной носок.
Только что ушёл врач из местного паллиатива, к которому прикреплён наш район. Сказал: набор диагнозов у вас, конечно, внушительный, но вы, похоже, не наш клиент. Вы лекарства по схеме принимайте, ну и ноги обрабатывайте, как делали.
Мама научила меня: сначала Хлоргексидин, потом мазь на О, стерильная салфетка, стерильный бинт, раз в день; а то, что мокнет, присыпать Банеоцином чаще.
Папе 90 лет и два с половиной месяца — мне хочется считать дробно, как считают возраст малышей.
— Я не знал, что это цыганка, мне потом мама сказала — потом, когда я стал взрослый. А может, она мне всё рассказала, я-то не запомнил сам, а теперь сочиняю байки?
Мы снимали дачу где-то в районе Малаховки, по-моему. Там мы узнали о начале войны. Да, точно, Малаховка.
Там же была дача у маминого брата. Вот знаешь, бывают кланы? Мамина семья была клан. Они были очень дружные, потому что мама была главная, она их воспитывала. Она их! Бабушка — ууу-ху-ху, родила и до свидания, она с ними не занималась совершенно. Рахиль Самуиловна. А маму как старшую дочь — вот, нянчи, вот, укачивай, вот, накорми, вот то… И мама с детства всех воспитала. Всех троих, понимаешь? Они её обожали. Уже будучи взрослыми людьми, они к ней как к маме обращались. Они всегда у нас были в гостях по любому поводу и без повода.
Я совсем не могу представить их лица. Бабушка умерла за год до моего рождения, а её братья и сестра для меня даже не имена в квадратиках и кружках семейного древа — тени, в которых я путаюсь.
— Мама моя была очень хлебосольная, понимаешь? Когда раздавался звонок в дверь, прежде чем идти открывать, она ставила чайник. Это была вообще её фишка. И все Аркашкины приятели это знали.
Аркаша — папин брат, я видела его только в детстве. Осталось на видеокассете: четырёхлетняя я радостно бегу открывать ему дверь с криком «Алкаша плишёл!» Он был писатель-сатирик, довольно известный в Советском союзе — он, наверное, оценил игру слов.
— Когда родители на Огарёвке уже жили — ты знаешь, где Огарёвка, да? все пути проходят через центр — все заходили. Я забегал туда каждый день, когда работал в министерстве особенно.
— Пообедать?
— А как же! И поспать. Я успевал за 15 минут, я тогда йогой занимался и очень хорошо владел этими всеми расслабухами. Я быстренько обедал: у мамы уже всё горячее стояло. Час перерыв-то у нас в министерстве был, надо было добежать (правда, недалеко), и все процедуры сделать, и обратно прибежать вовремя, а то караулили министерских чиновников. Вот: прибегал, ел — хотя это было неправильно, наверное, с точки зрения йоги — и после этого ложился на пол, мама коврик там уже стелила, она знала: сначала смеялась надо мной, потом поняла. Я говорю: «Мама, засыпаю, на 15 минут». Я расслаблял тело и отключался. До сих пор умею это делать, понимаешь?
Врёт. Когда у него болят ноги (то есть практически всегда), ходунки скрипят по квартире целую ночь.
— Потом в министерство возвращался. Иногда Гришина подбивал: давайте, Виктор… Как его? Виктор… Ой, господи. Ты подумай! Такой чудесный дядька. Забыл, как его зовут… Да, говорил, давайте в городе встретимся. У меня была масса мест, куда можно было пойти якобы. В Министерство лёгкой промышленности, в Главк… А на самом деле мы сбегали играть в карты.
— Погоди, пап, про карты. Ты же про цыганку рассказывал!
— Да я просто вспомнил вдруг. Хотел тебе сказать, какие вещи остаются в памяти. Был летний день, мы на озеро ходили купаться. Вернулись, и дело было к обеду. Значит, к нам во двор зашла тётка в харбарах цыганских, с монистами. Ну это я теперь уже описываю, тогда я этого описать бы не смог. Я тебе в основном рассказываю своё зрительное впечатление от неё, а словесное, вербальное, то, что она говорила, — это мне рассказала мама через много лет.
Мама очень не любила этих гадальщиков и гоняла их. А её ловили всегда. Почему-то она была именно для цыганок золотое дно, если бы она поддавалась, но она не поддавалась, не верила никогда.
Цыганка вошла во двор. Мы с Аркашкой были рядом с мамой где-то. И она так посмотрела на всю семью — взгляд вот этот вот оценивающий. Пробежала взглядом и сказала, вот так буквально указивкой, пальцем: «Этому принесут (указывая на меня), а этот сам возьмёт (указывая на Аркашку)». И вышла. Больше ничего. От мамы, видимо, такой ток шёл: ка-ак щас возьму палку!
А рефренчик остался. И мама мне потом уже говорила, когда мы выросли и Аркашка был уже известный человек: «Вот, вот, вот. Это мне ещё цыганка в сороковом году нагадала».
Так и осталось, Мань. Этому принесут, а этот сам возьмёт.
Если по жизни говорить, то мне действительно приносили. Я не могу сказать, что у меня была тяжёлая жизнь трудового человека. Такого, знаешь, который пашет, пашет, пашет, а результат ноль. Или наоборот, результат хороший. Пахарям должно воздаваться, я так считаю. Ты пахарь?
— Наверное.
— Да. Наверняка, а не наверное!
— А ты кто? Кочевник?
— Я более чем. Я ветер. Так что как так вышло, что ты пахарь — это не знаю. В маму, что ли?
Папа молчит. Я слушаю его дыхание и смотрю, как поднимается-опускается большой живот. Я с детства делаю так, когда он спит: наблюдаю за животом. Если шевелится, значит, жив. Потому, думала, когда была маленькая, и называется «живот».
— А интересно, посчитай мне: сколько еврейской крови в [называет имя внука, сына моего сводного брата].
— Ну смотри. В тебе — целиком, правильно?
— Да. Единица.
— У [называю имя папиного старшего сына] была мама еврейка?
— Половинка.
— Значит, у него три четверти.
— Ах вот так, значит. Их там складывать или как?
— Нет-нет, я уже сложила.
— А у его сына с одной стороны три четверти, а с другой стороны ноль. Правильно? Значит, получается…
— Три восьмых!
— Три восьмых. Это практически ничего.
— Ну почему?
— Переведи мне в десятичную систему, раздели три на восемь. Сколько будет? Чуть больше двадцати процентов. Поэтому правильно решили, что они все русские. Ну, и хорошо! [Шумно втягивает воздух носом.]
— Ты переживаешь, что они так решили?
— Упаси господь. Я переживал за фамилию. Мне сын сказал: «Папа, ну ты же знаешь, как это получилось. Я всё верну назад!» — клялся тут. Я не напоминаю. Тебе — спасибо.
— Мне — пожалуйста.
У меня уже семь лет двойная фамилия, всего 19 букв и один дефис. Первая часть от мужа, длинная и со сложной комбинацией «н». Обычно люди ломаются на ней. Вторая — от папы, четыре упругих буквы, как выдох спортсмена. Когда заполняешь формы на сайтах, система часто говорит: «Дополнительные знаки запрещены». Вскоре после свадьбы служащая банка, где я переоформляла карточку, устало спросила про короткую часть фамилии: «А это вообще зачем?» Объяснить ей это было невозможно, а папе ничего не нужно объяснять.
— Дети твои будут правильные.
— Дети мои будут хорошо учиться грамоте. Потому что пока они свою фамилию произнесут, а потом напишут, они уже запомнят все буквы.
— Какие будут, Мань, интересно было бы посмотреть, но ты не оставляешь мне шанса.
— Ну пап…
— Это в кино так говорят: «Ты не оставляешь мне шанса». [Складывает пальцы в пистолет.] И потом бах в лоб! А сколько времени, а?
— Без пятнадцати два.
— Пойду-ка я какао выпью. Если ты не возражаешь.
— А почему я должна возражать?
— Я выпью какао и съем один блин. Я слыхал, очень вкусные блины. А мне остался? Один?
— Конечно, там больше осталось.
— Мне не надо больше. Там у меня есть мёд или варенье? Я забыл. И какао.
— Сметана ещё есть, хочешь?
— Не, не хочу. И какао. И перекус у меня вполне до обеда, до вечера.
— Договорились. Я тебе погрею, а потом пойду, у меня будет звонок в половину третьего. Просто предупреждаю.
— А что я должен делать при звонке? Спрятаться?
— Ну, если тебе что-то понадобится…
— Нет, я не понадоблюсь. [Замолкает, потом хохочет громче, чем на самом деле смешно.] Хорошая оговорка. Да, Мань, так оно и есть, я не понадоблюсь. Ладно, и так обвиняют в философии на пустом месте… Ух, я хороший был бы философ! Замутузил бы голову! А, я бы не был философом, изучал бы наверняка научный коммунизм какой-нибудь.
— Ты политик бы был, пап.
— Политик? Думаешь?
— Ну ты забалтывать как умеешь?
— А это политики так умеют?
— Вот! Вот оно начинается.
— Ладно, пойдём тогда. Два блина мне погрей.
Папа раскачивается на диване, как неваляшка, наконец ставит ноги на пол и подкатывает к себе ходунки. Гирлянда цветных тряпок колышется. Пока он дойдёт до кухни, чайник уже вскипит.
—
Когда я читаю этот диалог девочкам из писательского сообщества, одна говорит: «Всё так начинается, что в конце героя должно не стать». Рано или поздно — действительно, и вообще все там будем, что драматургически, что по жизни. Но пока папа в соседней комнате смотрит невидящими глазами в сериал на мониторе, я не могу завершить историю. Я уже три года собираю диктофонные записи — осколки разговоров, воспоминаний, застольных бесед. Архив раздувается, но мне всё время кажется, что мы так не поговорили с папой о главном. И боюсь, что уже не поговорим.
Только что ушёл врач из местного паллиатива, к которому прикреплён наш район. Сказал: набор диагнозов у вас, конечно, внушительный, но вы, похоже, не наш клиент. Вы лекарства по схеме принимайте, ну и ноги обрабатывайте, как делали.
Мама научила меня: сначала Хлоргексидин, потом мазь на О, стерильная салфетка, стерильный бинт, раз в день; а то, что мокнет, присыпать Банеоцином чаще.
Папе 90 лет и два с половиной месяца — мне хочется считать дробно, как считают возраст малышей.
— Я не знал, что это цыганка, мне потом мама сказала — потом, когда я стал взрослый. А может, она мне всё рассказала, я-то не запомнил сам, а теперь сочиняю байки?
Мы снимали дачу где-то в районе Малаховки, по-моему. Там мы узнали о начале войны. Да, точно, Малаховка.
Там же была дача у маминого брата. Вот знаешь, бывают кланы? Мамина семья была клан. Они были очень дружные, потому что мама была главная, она их воспитывала. Она их! Бабушка — ууу-ху-ху, родила и до свидания, она с ними не занималась совершенно. Рахиль Самуиловна. А маму как старшую дочь — вот, нянчи, вот, укачивай, вот, накорми, вот то… И мама с детства всех воспитала. Всех троих, понимаешь? Они её обожали. Уже будучи взрослыми людьми, они к ней как к маме обращались. Они всегда у нас были в гостях по любому поводу и без повода.
Я совсем не могу представить их лица. Бабушка умерла за год до моего рождения, а её братья и сестра для меня даже не имена в квадратиках и кружках семейного древа — тени, в которых я путаюсь.
— Мама моя была очень хлебосольная, понимаешь? Когда раздавался звонок в дверь, прежде чем идти открывать, она ставила чайник. Это была вообще её фишка. И все Аркашкины приятели это знали.
Аркаша — папин брат, я видела его только в детстве. Осталось на видеокассете: четырёхлетняя я радостно бегу открывать ему дверь с криком «Алкаша плишёл!» Он был писатель-сатирик, довольно известный в Советском союзе — он, наверное, оценил игру слов.
— Когда родители на Огарёвке уже жили — ты знаешь, где Огарёвка, да? все пути проходят через центр — все заходили. Я забегал туда каждый день, когда работал в министерстве особенно.
— Пообедать?
— А как же! И поспать. Я успевал за 15 минут, я тогда йогой занимался и очень хорошо владел этими всеми расслабухами. Я быстренько обедал: у мамы уже всё горячее стояло. Час перерыв-то у нас в министерстве был, надо было добежать (правда, недалеко), и все процедуры сделать, и обратно прибежать вовремя, а то караулили министерских чиновников. Вот: прибегал, ел — хотя это было неправильно, наверное, с точки зрения йоги — и после этого ложился на пол, мама коврик там уже стелила, она знала: сначала смеялась надо мной, потом поняла. Я говорю: «Мама, засыпаю, на 15 минут». Я расслаблял тело и отключался. До сих пор умею это делать, понимаешь?
Врёт. Когда у него болят ноги (то есть практически всегда), ходунки скрипят по квартире целую ночь.
— Потом в министерство возвращался. Иногда Гришина подбивал: давайте, Виктор… Как его? Виктор… Ой, господи. Ты подумай! Такой чудесный дядька. Забыл, как его зовут… Да, говорил, давайте в городе встретимся. У меня была масса мест, куда можно было пойти якобы. В Министерство лёгкой промышленности, в Главк… А на самом деле мы сбегали играть в карты.
— Погоди, пап, про карты. Ты же про цыганку рассказывал!
— Да я просто вспомнил вдруг. Хотел тебе сказать, какие вещи остаются в памяти. Был летний день, мы на озеро ходили купаться. Вернулись, и дело было к обеду. Значит, к нам во двор зашла тётка в харбарах цыганских, с монистами. Ну это я теперь уже описываю, тогда я этого описать бы не смог. Я тебе в основном рассказываю своё зрительное впечатление от неё, а словесное, вербальное, то, что она говорила, — это мне рассказала мама через много лет.
Мама очень не любила этих гадальщиков и гоняла их. А её ловили всегда. Почему-то она была именно для цыганок золотое дно, если бы она поддавалась, но она не поддавалась, не верила никогда.
Цыганка вошла во двор. Мы с Аркашкой были рядом с мамой где-то. И она так посмотрела на всю семью — взгляд вот этот вот оценивающий. Пробежала взглядом и сказала, вот так буквально указивкой, пальцем: «Этому принесут (указывая на меня), а этот сам возьмёт (указывая на Аркашку)». И вышла. Больше ничего. От мамы, видимо, такой ток шёл: ка-ак щас возьму палку!
А рефренчик остался. И мама мне потом уже говорила, когда мы выросли и Аркашка был уже известный человек: «Вот, вот, вот. Это мне ещё цыганка в сороковом году нагадала».
Так и осталось, Мань. Этому принесут, а этот сам возьмёт.
Если по жизни говорить, то мне действительно приносили. Я не могу сказать, что у меня была тяжёлая жизнь трудового человека. Такого, знаешь, который пашет, пашет, пашет, а результат ноль. Или наоборот, результат хороший. Пахарям должно воздаваться, я так считаю. Ты пахарь?
— Наверное.
— Да. Наверняка, а не наверное!
— А ты кто? Кочевник?
— Я более чем. Я ветер. Так что как так вышло, что ты пахарь — это не знаю. В маму, что ли?
Папа молчит. Я слушаю его дыхание и смотрю, как поднимается-опускается большой живот. Я с детства делаю так, когда он спит: наблюдаю за животом. Если шевелится, значит, жив. Потому, думала, когда была маленькая, и называется «живот».
— А интересно, посчитай мне: сколько еврейской крови в [называет имя внука, сына моего сводного брата].
— Ну смотри. В тебе — целиком, правильно?
— Да. Единица.
— У [называю имя папиного старшего сына] была мама еврейка?
— Половинка.
— Значит, у него три четверти.
— Ах вот так, значит. Их там складывать или как?
— Нет-нет, я уже сложила.
— А у его сына с одной стороны три четверти, а с другой стороны ноль. Правильно? Значит, получается…
— Три восьмых!
— Три восьмых. Это практически ничего.
— Ну почему?
— Переведи мне в десятичную систему, раздели три на восемь. Сколько будет? Чуть больше двадцати процентов. Поэтому правильно решили, что они все русские. Ну, и хорошо! [Шумно втягивает воздух носом.]
— Ты переживаешь, что они так решили?
— Упаси господь. Я переживал за фамилию. Мне сын сказал: «Папа, ну ты же знаешь, как это получилось. Я всё верну назад!» — клялся тут. Я не напоминаю. Тебе — спасибо.
— Мне — пожалуйста.
У меня уже семь лет двойная фамилия, всего 19 букв и один дефис. Первая часть от мужа, длинная и со сложной комбинацией «н». Обычно люди ломаются на ней. Вторая — от папы, четыре упругих буквы, как выдох спортсмена. Когда заполняешь формы на сайтах, система часто говорит: «Дополнительные знаки запрещены». Вскоре после свадьбы служащая банка, где я переоформляла карточку, устало спросила про короткую часть фамилии: «А это вообще зачем?» Объяснить ей это было невозможно, а папе ничего не нужно объяснять.
— Дети твои будут правильные.
— Дети мои будут хорошо учиться грамоте. Потому что пока они свою фамилию произнесут, а потом напишут, они уже запомнят все буквы.
— Какие будут, Мань, интересно было бы посмотреть, но ты не оставляешь мне шанса.
— Ну пап…
— Это в кино так говорят: «Ты не оставляешь мне шанса». [Складывает пальцы в пистолет.] И потом бах в лоб! А сколько времени, а?
— Без пятнадцати два.
— Пойду-ка я какао выпью. Если ты не возражаешь.
— А почему я должна возражать?
— Я выпью какао и съем один блин. Я слыхал, очень вкусные блины. А мне остался? Один?
— Конечно, там больше осталось.
— Мне не надо больше. Там у меня есть мёд или варенье? Я забыл. И какао.
— Сметана ещё есть, хочешь?
— Не, не хочу. И какао. И перекус у меня вполне до обеда, до вечера.
— Договорились. Я тебе погрею, а потом пойду, у меня будет звонок в половину третьего. Просто предупреждаю.
— А что я должен делать при звонке? Спрятаться?
— Ну, если тебе что-то понадобится…
— Нет, я не понадоблюсь. [Замолкает, потом хохочет громче, чем на самом деле смешно.] Хорошая оговорка. Да, Мань, так оно и есть, я не понадоблюсь. Ладно, и так обвиняют в философии на пустом месте… Ух, я хороший был бы философ! Замутузил бы голову! А, я бы не был философом, изучал бы наверняка научный коммунизм какой-нибудь.
— Ты политик бы был, пап.
— Политик? Думаешь?
— Ну ты забалтывать как умеешь?
— А это политики так умеют?
— Вот! Вот оно начинается.
— Ладно, пойдём тогда. Два блина мне погрей.
Папа раскачивается на диване, как неваляшка, наконец ставит ноги на пол и подкатывает к себе ходунки. Гирлянда цветных тряпок колышется. Пока он дойдёт до кухни, чайник уже вскипит.
—
Когда я читаю этот диалог девочкам из писательского сообщества, одна говорит: «Всё так начинается, что в конце героя должно не стать». Рано или поздно — действительно, и вообще все там будем, что драматургически, что по жизни. Но пока папа в соседней комнате смотрит невидящими глазами в сериал на мониторе, я не могу завершить историю. Я уже три года собираю диктофонные записи — осколки разговоров, воспоминаний, застольных бесед. Архив раздувается, но мне всё время кажется, что мы так не поговорили с папой о главном. И боюсь, что уже не поговорим.
МАША КРАШЕНИННИКОВА-ХАЙТ
Родилась в Москве в 1992-м, когда маме было 44, а папе 60. Это во многом меня сформировало: что слушаю, когда грустно («Песни нашего века»), как захожу в комнаты (стучась в двери, даже если они открыты), что не люблю (недоговорённостей и манипуляций), кем себя чувствую (человеком, у которого есть опора и подстраховка). Я училась на психолога, потом на редактора, сейчас занимаюсь театральной педагогикой и социальным театром. Пишу рецензии на спектакли для онлайн-издания Teatr to go и иногда для «Сноба», провожу зрительские обсуждения спектаклей, работаю с подростками, инклюзией и не хочу быть кем-то одним.
Другие рассказы
ЯНА НОВАК
АЛЕКСАНДР АКУЛИНИЧЕВ